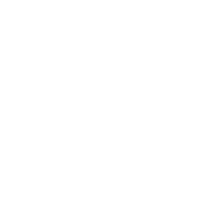
«Если чего-то нет в интернете, то этого нигде не произошло»
Интервью с главным редактором TJ Никитой Лихачевым
TJ
TJ был запущен 20 июня 2011 году. Издание сочетает в себе СМИ с полноценной редакцией, систему автоматического анализа твиттера, а также платформу для создания пользовательского контента.
Основатель стартапа Никита Лихачев обозначил концепцию издания так: "TJ — это издание про явления в интернете. Про то, что вызывает резонанс среди его жителей в России и по всему миру, будь то политика, гаджеты, сериалы, флешмобы или банальные селфи. Мы хотим фиксировать эти явления, вести их летопись, агрегировать и объяснять суть происходящего".
Основатель стартапа Никита Лихачев обозначил концепцию издания так: "TJ — это издание про явления в интернете. Про то, что вызывает резонанс среди его жителей в России и по всему миру, будь то политика, гаджеты, сериалы, флешмобы или банальные селфи. Мы хотим фиксировать эти явления, вести их летопись, агрегировать и объяснять суть происходящего".
Никита Лихачев — основатель и главный редактор TJ. В 2011 году окончил факультет бизнес-информатики Высшей школы экономики. С 2011 по 2013 год учился в магистратуре НИУ ВШЭ по программе мультимедийных коммуникаций.
«Проблема "Вконтакте" в том, что там никакой повестки»
— Можешь рассказать, как пришла в голову идея о создании TJ?
— Идея TJ началась с аналитики по соцсетям. В 2010-2011 году в российском сегменте твиттера появилось огромное количество пользователей, которые генерировали уникальный контент. Систем для отсечения интересных от неинтересных пользователей не было. Как и сайта, на котором можно было бы посмотреть, какие твиты сегодня становятся самыми популярными.
Я замечал, что пропускаю через себя много контента, потому что читаю огромное количество людей. Сотни аккаунтов были в 2008 году, в 2010-2011 годах их было уже под две тысячи. Я понимал, что если у нас есть большое число аккаунтов, которые можно проверять при помощи роботов, то можно просто сделать рейтинг и выстроить его на одном сайте.
Вокруг этого рейтинга построилось информационное издание. Мы начали сначала дополнять твиты от робота заметками о том, что происходит в блогосфере. Увидели, что никто не публикует обзорных материалов по соцсетям: тогда еще было не принято ставить в качестве источника твиты. Не доверяли. Теперь уже все считают, что если твит появился в официальном аккаунте какого-нибудь Алексея Венедиктова, то на него уже спокойно можно ссылаться. Из-за этого периодически возникали неловкие ситуации. Например, раньше любили ссылаться на твиттер Кашина, не понимая, что он цитирует чужие твиты. Так ему приписывали заявления, которых он не делал.
Я замечал, что пропускаю через себя много контента, потому что читаю огромное количество людей. Сотни аккаунтов были в 2008 году, в 2010-2011 годах их было уже под две тысячи. Я понимал, что если у нас есть большое число аккаунтов, которые можно проверять при помощи роботов, то можно просто сделать рейтинг и выстроить его на одном сайте.
Вокруг этого рейтинга построилось информационное издание. Мы начали сначала дополнять твиты от робота заметками о том, что происходит в блогосфере. Увидели, что никто не публикует обзорных материалов по соцсетям: тогда еще было не принято ставить в качестве источника твиты. Не доверяли. Теперь уже все считают, что если твит появился в официальном аккаунте какого-нибудь Алексея Венедиктова, то на него уже спокойно можно ссылаться. Из-за этого периодически возникали неловкие ситуации. Например, раньше любили ссылаться на твиттер Кашина, не понимая, что он цитирует чужие твиты. Так ему приписывали заявления, которых он не делал.
Мы построили издание, которое пишет не только про соцсети. Мы начали развивать робота в сторону анализа новостей. Он обозревал картину по существующим СМИ, когда чего-то не хватало — дописывали сами. Клево, когда ты пишешь материал, и читатель приходит к тебе именно за ним, а не для того, чтобы перейти по ссылке и прочитать его на другом сайте. Когда мы начинали со сливов и интервью — это был один уровень трафика, когда мы начали развивать редакцию — это был уже другой уровень. В 2013 году мы полностью отошли от того, чтобы развивать автоматические методы анализа информации. И решили, что становимся полноценным изданием.
— Но изначально ты строил проект как агрегатор, сервис?
— Да, изначально идея звучала как «анализатор, который действует автономно». Ты его настроил, собрал базу аккаунтов, отработал критерии отбора твитов в топ. Сначала думали, что эта шутка может работать бесконечно. Потом мы поняли, что автоматически не получается.
Да и соцсети начали сильно закручивать гайки. Ведь почему мы взяли Твиттер: не только из-за того, что там была такая атмосфера передачи и обсуждения новостей. Твиттер в то время был самым прогрессивным сервисом с открытым API. А потом началось закручивание гаек, так как на нем начали паразитировать другие сервисы. В итоге Твиттер закрутил все до того, что экосистема перестала развиваться.
А вот другие системы — Instagram, Facebook, «Вконтакте» — они вообще не позволяли делать подобные сайты. Кто-то пытался анализировать «Вконтакте». Но проблема «Вконтакте» в том, что там никакой повестки. Там сидит аудитория, которая в большинстве своем занимается репостом более развлекательного контента.
Да и соцсети начали сильно закручивать гайки. Ведь почему мы взяли Твиттер: не только из-за того, что там была такая атмосфера передачи и обсуждения новостей. Твиттер в то время был самым прогрессивным сервисом с открытым API. А потом началось закручивание гаек, так как на нем начали паразитировать другие сервисы. В итоге Твиттер закрутил все до того, что экосистема перестала развиваться.
А вот другие системы — Instagram, Facebook, «Вконтакте» — они вообще не позволяли делать подобные сайты. Кто-то пытался анализировать «Вконтакте». Но проблема «Вконтакте» в том, что там никакой повестки. Там сидит аудитория, которая в большинстве своем занимается репостом более развлекательного контента.
Наверняка есть системы, которые занимаются анализом вообще всего. Султан Сулейманов рассказывал, что занимается подобным проектом. Но сделать из этого медиа, которое было бы удобно читать, очень сложно. И по прошествии двух лет мы поняли, что лучше вкладывать свои ресурсы и силы в разработку в то, чтобы немного «переворачивать игру» классических изданий. Делать новое медиа, которое использует все инструменты, которые мы использовали до этого, но делает упор на контент.
— Ты упомянул проект Султана. Он говорил, что будет ориентировать в первую очередь на западный рынок. В твоих ранних интервью тоже слышал о планах развития сервисов на запад. С переносом акцентов на контент эти идеи отложены?
— Они отложены на неопределенное время. Чисто теоретически, если бы у нас было много свободных квалифицированных сотрудников, если бы могли распределять время одновременно между развитием текущих проектов (TJ, vc.ru, Spark) и экспортом технологий — мы бы уже давно этим занялись.
В 2012 году была попытка сделать экспорт TJournal в Бразилию. В это время мой друг Евгений Антошкин поехал туда жить на полгода. Но мы поняли, что это не получится, поскольку на это нужно было потратить большое количество времени и ресурсов. А нас было всего несколько сотрудников. Но планы по выходу на англоязычный рынок в обозримом будущем есть. Ресурсов стало немного больше.
В 2012 году была попытка сделать экспорт TJournal в Бразилию. В это время мой друг Евгений Антошкин поехал туда жить на полгода. Но мы поняли, что это не получится, поскольку на это нужно было потратить большое количество времени и ресурсов. А нас было всего несколько сотрудников. Но планы по выходу на англоязычный рынок в обозримом будущем есть. Ресурсов стало немного больше.
«В маленьком издании возможность вырасти крутого журналиста выше»
— Если вернуться к моменту, когда TJ решил сконцентрироваться на контенте. Начинающему изданию сложно сразу получить внимание аудитории. Как она сформировалась вокруг TJ?
— Самый простой метод — использовать тех людей, которые уже имеют аудиторию. На начальном этапе я брал интервью у известных блогеров, которые потом делились этим интервью в соцсетях. Таким образом набирали первую аудиторию: она была очень небольшой, но, благодаря новизне проекта, она продолжительное время. Самым эффективным стал формат «сливов». Когда происходил скандал, о котором мы писали нечто вроде хронологии — мы упоминали его участников. А они делились этим в своих соцсетях.
Одним из самых успешных ходов стало создание «биржи твиттер-аккаунтов». В игровом формате мы сделали аналог «писькомерки»: люди могли покупать виртуальные акции аккаунтов в твиттере на виртуальные деньги. Когда люди покупали их — они отправляли уведомление человеку, чьи акции они купили. Он заинтересовывался и начинал призывать своих подписчиков повышать ценность своего аккаунта. Играли одновременно на тщеславии и вирусном распространении. Очень большое количество людей заметило TJ. В частности, звезды соцсетей, которые подписались и стали читать.
Одним из важных фактором стала поддержка Павла Дурова. Мы на раннем этапе подали заявку на проект StartFellows, который он делал с Юрием Мильнером. Мильнер представлял деньги, а Дуров — медийную поддержку. Когда мы в числе проектов первой волны получили грант, то о нас написал ряд изданий. Потому что было круто: Дуров с Мильнером дают небольшую (25 тысяч долларов), но существенную для того времени сумму стартапам. Были действительно клевые проекты вместе с нами, поэтому сыграл какой-то social proof — это не просто проект, он одобряется крутыми инвесторами.
Одним из важных фактором стала поддержка Павла Дурова. Мы на раннем этапе подали заявку на проект StartFellows, который он делал с Юрием Мильнером. Мильнер представлял деньги, а Дуров — медийную поддержку. Когда мы в числе проектов первой волны получили грант, то о нас написал ряд изданий. Потому что было круто: Дуров с Мильнером дают небольшую (25 тысяч долларов), но существенную для того времени сумму стартапам. Были действительно клевые проекты вместе с нами, поэтому сыграл какой-то social proof — это не просто проект, он одобряется крутыми инвесторами.
— На что пошли первые инвестиции?
— На зарплаты.
— А тогда сколько сотрудников было в проекте?
— Наверное, человек пять.
— Но в то время за контент отвечал только ты?
— В первые месяцы да. Потом уже начали появляться редакторы.
— В 2013 году в комментариях собрались наряду с обычными пользователями медиаперсоны вроде коллектива старой Lenta.ru, видел часто Артема Габрелянова. Как получилось привлечь их не просто как читателей, а как активных комментаторов?
— Думаю, что самым главным фактором было то, что коммьюнити было совсем небольшим. В 2013 году оно было совсем маленьким, но теплым и ламповым. До подписки на комментарии любой мог прийти к нам, залогинившись через соцсети.
Еще у нас необычная система: в отличие от многих блоков комментариев в СМИ, у нас всегда комментарии шли сразу после статьи. Их было немного, но они были качественными, дополняли материал. Мы писали статью, а под ней набиралось еще столько же по объему интересных комментариев: в основном смешных, иногда с фактами, видео, гифками, картинками. Я зачастую получал отзывы, что люди заходили на сайт не почитать статью, а почитать комментарии. Мы не всегда успевали быстро отработать новостной повод, но под статьей у нас все равно возникало прикольное обсуждение. Поэтому для людей уровня Габрелянова и других блогеров и медийщиков было прикольно просто поучаствовать в комментариях точно так же, как они устраивают батлы у себя в фейсбуке.
В ряде случаев люди приходили, чтобы оставить «официальный» комментарий. Например, новость касалась компании или стартапа — их представители приходили и начинали вступать в обсуждение. Наверное, самым бомбовым был материал Марины Рожковой, занимающейся пиаром всяких смартфонов и гаджетов. Она начала отвечать каждому на претензии и активно сраться с комментаторами. За счет этого число комментариев выросло в два раза, а уровень накала дискуссии в несколько раз. Ей очень понравилось. А вот аудитории — не очень.
Еще у нас необычная система: в отличие от многих блоков комментариев в СМИ, у нас всегда комментарии шли сразу после статьи. Их было немного, но они были качественными, дополняли материал. Мы писали статью, а под ней набиралось еще столько же по объему интересных комментариев: в основном смешных, иногда с фактами, видео, гифками, картинками. Я зачастую получал отзывы, что люди заходили на сайт не почитать статью, а почитать комментарии. Мы не всегда успевали быстро отработать новостной повод, но под статьей у нас все равно возникало прикольное обсуждение. Поэтому для людей уровня Габрелянова и других блогеров и медийщиков было прикольно просто поучаствовать в комментариях точно так же, как они устраивают батлы у себя в фейсбуке.
В ряде случаев люди приходили, чтобы оставить «официальный» комментарий. Например, новость касалась компании или стартапа — их представители приходили и начинали вступать в обсуждение. Наверное, самым бомбовым был материал Марины Рожковой, занимающейся пиаром всяких смартфонов и гаджетов. Она начала отвечать каждому на претензии и активно сраться с комментаторами. За счет этого число комментариев выросло в два раза, а уровень накала дискуссии в несколько раз. Ей очень понравилось. А вот аудитории — не очень.
— Да, помню эту дискуссию.
— Тут главное, что в комментариях этих людей заметят. Ты приходишь, авторизуешься по своей соцсети, и все понимают по аватару или по ссылке в профиле, что это настоящий человек.
— В 2013 году в издание пришли Султан Сулейманов и Виктор Степанов из Lenta.ru. Это серьезное, большое СМИ. Как считаешь есть тренд на переход журналистов в стартапы? Или это единичные случаи?
— Я думаю, что тренда нет. Ты имеешь ввиду известных журналистов? Известных журналистов не так много. Наоборот, сейчас все журналисты, которые ищут работу — они пытаются перейти в более крупные издания. Мы просто решили ухватить двух классных чуваков, которые не знали, что делать после «Ленты». Или просто хотели сменить обстановку.
Султан Сулейманов
Виктор Степанов
— Просто, если вспомнить: тот же Николай Кононов до Hopes & Fears работал в Forbes, старая команда Lenta.ru в большинстве своем не пыталась перейти в большие издания, а объединились в стартапе Meduza.
— В данном случае Кононов перешел из большого журнала, в котором перестало происходить то хорошее, что происходило раньше. И потом он переходил сначала в Look At Me, а потом снова в большой медиахолдинг. Все зависит от амбиций. Мы последние несколько лет смотрим на людей, которых пытаются заставить не кучковаться в больших изданиях и разбить их на мелкие. А потом идет обратный процесс.
— А в чем вообще отличия работы в большом издании от стартапа?
— В большом издании есть ряд разных людей, которые занимаются разными вещами. Если ты бильд-редактор, то ты занимаешься поиском картинок, но не пишешь новости. Если ты фотокорреспондент, то ты занимаешься съемкой картинок, но ты не выбираешь их для новости. В целом процесс выглядит качественнее и профессиональнее, каждый бдит свой участок.
В маленьком издании все занимаются всем
Поэтому в них возможность вырасти в какого-то крутого журналиста выше, как мне кажется. Потому что ты развиваешься всесторонне. Даже если ты неправильно выбрал роль в профессии — ты не зашьешься в корреспондентской деятельности, а зайдешь сразу во все сферы и поймешь, что тебе больше нравится. При этом ты можешь научиться многим вещам: версткой, немного программированию, работе с фотошопом, ты сам будешь писать подводки к соцсетям. Фактически, потом тебе будет легче найти работу, ты будешь более профессиональным. И когда захочешь дорасти до управленца, до будешь понимать, как работают люди из разных отделов.
Но если ты занимаешься узкой работой в стартапе, то такого опыта не получишь. В Lenta.ru я видел, что люди занимаются разными вещами, и некоторых из них не волнует то, что происходит на другом участке. А если работаешь в маленьком издании, то рано или поздно придется заниматься всем.
Но если ты занимаешься узкой работой в стартапе, то такого опыта не получишь. В Lenta.ru я видел, что люди занимаются разными вещами, и некоторых из них не волнует то, что происходит на другом участке. А если работаешь в маленьком издании, то рано или поздно придется заниматься всем.
«Мы обрезали всех людей, которые приходят оставить фиговый комментарий»
— Вернемся к истории издании. Какие были основные причины объединения с «Цукерберг позвонит» в издательский дом «Комитет»?
— Всегда было интересно заняться созданием бизнес-издания. Начинать новое — достаточно долгий путь. В момент, когда была идея создать свое бизнес-издание — было понятно, что самым клевым из них в Рунете было «Цукерберг позвонит», которым занимался Андрей Загоруйко. И я так понимаю, что Влад Цыплухин просто начал вести с ними переговоры о том, чтобы развивать его совместно. Объединение было логичным. У нас было два разных издания. В случае с «ЦП» — с очень четко описанной аудиторией (люди, которые занимаются бизнесом в интернете). В случае с TJ — с менее четкой аудиторией, но многочисленной и более прогрессивной в сравнении с похожими новостными изданиями. И это можно было эффективно продавать.
Просто когда ты в маленьком издании занимаешься всем один, то бегаешь от одного пожара к другому. Через некоторое время заканчиваются силы, и есть вероятность того, что ты закроешься, не успев выйти на самоокупаемость.
Просто когда ты в маленьком издании занимаешься всем один, то бегаешь от одного пожара к другому. Через некоторое время заканчиваются силы, и есть вероятность того, что ты закроешься, не успев выйти на самоокупаемость.
Собрание сотрудников изданий ИД "Комитет"
— Перезапуск 2014 года кажется самым глобальным пока в истории издания. Можешь рассказать, как вы пришли к идее введения paywall и пользовательского контента?
— Очень просто: у нас выросло количество комментариев до такого уровня, что нам стало тяжело их модерировать. Первым делом мы закрыли их во Вконтакте, когда там стало много трэшака. Потом мы решили, что надо и сайтом что-то делать. У нас на сайте стали появляться боты, которые засоряют раздел. Стали появляться люди, которые несмешно шутят. Пришли люди, которые не понимали дух TJ.
Введя платную подписку, мы резко обрезали всех людей, которые приходят позевать или оставить фиговый комментарий. Сумма небольшая, но сам факт оплаты так отторгал всех неподходящих нам людей, что это круто сработало. Когда мы запускали подписку, не знали: может вообще никто не будет покупать подписку, может мы себя обманываем и нет никакого ядра у TJ. Но оказалось, что эти люди есть.
Введя платную подписку, мы резко обрезали всех людей, которые приходят позевать или оставить фиговый комментарий. Сумма небольшая, но сам факт оплаты так отторгал всех неподходящих нам людей, что это круто сработало. Когда мы запускали подписку, не знали: может вообще никто не будет покупать подписку, может мы себя обманываем и нет никакого ядра у TJ. Но оказалось, что эти люди есть.
— Второе важное нововведение — пользовательский контент. Что изначально представляли, когда вводили платформу? Она развивается по плану или рассчитывали на другое?
— Мы вообще ни на что не рассчитывали. Подумали, что у нас есть клевая аудитория, которая публикует смешные комментарии. И теоретически они могут публиковать еще и интересные новости.
Если у нас есть активная аудитория, то почему бы ее не использовать?
И второй раз за два года сделали вещь, которую мы внедряли без прогнозируемых результатов: закрытие комментариев и введение UGC. Первое время редакция существовала отдельно. Но платформа получила популярность, мы начали писать заметки на основе того, что нам прислали читатели. И мы стали думать, как это объединить.
Мне кажется, в этом был опять какой-то философский подтекст: изначально мы делали сайт на основе автоматического анализа соцсетей, потом стали дополнять его вручную, а теперь мы еще ввели «помощь зала». Мы помогаем им, они помогают нам. В итоге получается такой симбиотический контент: анализ, редакция, читатели.
Мне кажется, в этом был опять какой-то философский подтекст: изначально мы делали сайт на основе автоматического анализа соцсетей, потом стали дополнять его вручную, а теперь мы еще ввели «помощь зала». Мы помогаем им, они помогают нам. В итоге получается такой симбиотический контент: анализ, редакция, читатели.
«Идея общей тематики была всегда»
— У TJ сильно расширилась тематика. Верно, что на это повлияло именно введение пользовательского контента?
— Люди начали показывать, что им интересно. Мы никогда не были узко отраслевым изданием. Изначально мы позиционировали себя как Twi Journal, который был построен вокруг твиттера. Но хотелось собирать весь важный и обсуждаемый контент, который распространяется в течение дня. Так что идея общей тематики была всегда. И вопрос заключался в том, как расширить свой кругозор настолько, чтобы все охватить. Для этого нужны технологии или профессиональная редакция, или люди. Пришли к тому, что все взаимосвязано, и нужно все использовать одновременно.
— Раньше ты называл TJ «изданием про явления в интернете», то сейчас это издание скорее общего профиля?
— Я до сих пор могу назвать нас изданием про интернет, потому что он настолько распространен во всех слоях населения, что если чего-то нет в интернете, то этого нигде не произошло. Все уже в интернете. Ты реже встретишь человека, который не в интернете: у тебя постоянно с собой смартфон с выходом в сеть, на работе у тебя есть компьютер, подключенный к сети.
— Несколько месяцев назад был заморожен Look At Me. И Алексей Аметов тогда сказал, что текущая повестка издания перестала быть актуальна. При этом частично она пересекалась с вашей. Согласен с этими словами?
— Не совсем. Проблема в том, что Look At Me как раз искали свою тематику. И в тот момент, когда им пришлось заморозиться — они просто не успели вернуться на тот масштаб аудитории, который бы ему позволил существовать дальше. Поэтому слова про тематику звучат, как оправдание.
— На конференции «Шторм» Влад Цыплухин объявил о создании агентства по нативной рекламе рамках «Комитета». Как это отразится в вашей работе? Редакция освобождена от написания нативных материалов?
— Наоборот: идея в том, чтобы создать отдел, который будет заниматься организацией этого процесса. Раньше им занималась коммерция. Это довольно напряженный процесс: тексты нужны заказывать, контролировать их выполнение, согласовывать с заказчиком. Проблема в том, что коммерция не понимает в текстах, а клиент не очень понимает, что он хочет. А редакция не хочет заниматься выполнением прихоти клиента, потому что хочет заниматься редакционными материалы.
Владислав Цыплухин на конференции "Шторм"
Идея в том, чтобы все объединить. Придумали, что нужно что-то вроде агентства, прослойки между редакцией и клиентами. Они понимают, в чем суть TJ или vc.ru. И либо будет подыскиваться человек, который сможет написать материал в духе издания, либо будет привлекаться редактор. Вопрос в том, насколько это будет плотно взаимодействовать.
Я считаю, что у Залины получится найти людей, а при необходимости редакция сможет ей помогать. По моему опыту написания нативных текстов, по тому, что я вижу по результатам работы Кости Панфилова или Влада Цыплухина — у них в итоге получаются очень крутые продукты. Еще есть возможно привлечь человека, который обладает определенной экспертизой. Ведь у нас как обычно: кто свободен, тот и пишет, все мультифункциональный. А тут что-то вроде «чувак, ты же разбираешься в компьютерах, давай ты напишешь». И он пишет от души. В общем, агентство займется коммуникацией между клиентом и редакцией.
И главное, что читатель в итоге получит крутой контент. Ему интересно читать нативную рекламу также, как и хорошую статью. При этом за этот материал мы получили не только читательское внимание, но и деньги. А если материал окажется хорошим, то клиент вернется.
Я считаю, что у Залины получится найти людей, а при необходимости редакция сможет ей помогать. По моему опыту написания нативных текстов, по тому, что я вижу по результатам работы Кости Панфилова или Влада Цыплухина — у них в итоге получаются очень крутые продукты. Еще есть возможно привлечь человека, который обладает определенной экспертизой. Ведь у нас как обычно: кто свободен, тот и пишет, все мультифункциональный. А тут что-то вроде «чувак, ты же разбираешься в компьютерах, давай ты напишешь». И он пишет от души. В общем, агентство займется коммуникацией между клиентом и редакцией.
И главное, что читатель в итоге получит крутой контент. Ему интересно читать нативную рекламу также, как и хорошую статью. При этом за этот материал мы получили не только читательское внимание, но и деньги. А если материал окажется хорошим, то клиент вернется.
— Какие ближайшие планы у TJ?
— По планам что-то вроде перезапуска осенью. Но я не уверен в сроках, так как лето уже началось, осталось не очень много времени. И, как я уже говорил, в обозримом будущем — запуск англоязычной версии. Работа над ней уже идет.

